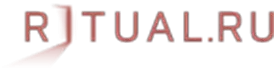«Мы бесконечность не понимаем» - Валерий и Наталья Черкашины
Валера и Наташа Черкашины — российские художники, фотографы и перфомансисты. Работали с культурами СССР и России, США, Великобритании, Германии, Испании, Японии, Монголии, Китая, Франции, Италии и многих других стран. Авторы 170 персональных выставок и 270 акций и хэппенингов.
О них сделано более 70 ТВ передач, включая CNN, Deutsche Welle, Italian Super Channel, Российское ТВ и т. д., так же более 250 публикаций, включая Washington Post, Art+Auction, Art Forum, Stern Magazine и др. Их работы находятся более чем в 30 крупнейших музейных и корпоративных коллекциях США, России и других стран.
Во второй книге Черкашиных «Как я был настоящим художником» есть такая глава — «Как я Сталина хоронил»:
«Я уже к тому времени знал, что есть такой вождь Сталин, который не должен был умирать, во что многие верили и поэтому так скорбно восприняли то, что он умер».
Валерий: На тему смерти мы вообще пока особо не думали. Хотя давно пора, мне по крайней мере. Мы уже умерли, это у нас новая жизнь. Поэтому к смерти мы больше относимся как к перерождению. Даже в реальной жизни: ну, я там горел-тонул, всё это было.
Наталья: Ещё болел и чуть не умер, когда мы с тобой поженились.
В: А, да, умирал! Чем болел — не знаю. Весь зелёный такой, ничего не ел, худел-худел-худел, а все анализы были хорошие. Но потом меня что-то спасло. Что спасло? Ну, не врачи, конечно. Ну да это не важно. А вот реально в 2013 мы попали в аварию в Таиланде, на байке.
Н: Ну, я-то лёгким испугом, ну как… одним переломом всего отделалась. А у Валеры…10 рёбер поломалось, лопатка оторвалась… Не вписался в поворот.
Он считает, что если ехать, то на предельной скорости… не зная ни дороги, ни места.
В: А я же на байке никогда не ездил, первый раз! Да и вообще ни на чём не ездил…
И когда падали, видел: я лечу, Наташа летит, а над нами пролетает байк. Хорошо, что он улетел дальше, не на нас. Он бы, конечно, нас раздавил. Наташа же на меня упала. И я прямо сложился. Такой треск был, что я Наташе говорю: кажется, у меня сломался позвоночник. Но начал шевелится — и вроде нет, позвоночник целый.
К счастью, страховка у нас была хорошая: нас вылечили, отвезли…
Н: Мне-то сделали операцию через три дня — и выпустили, а Валера три недели в больнице пробыл.
В: Её сразу на операцию увезли, а меня готовили. Но я чувствовал, что нельзя мне эту операцию делать. Ну, у меня бывают предчувствия, третий глаз — всё это работает. Я хирургу сказал: не нужно сегодня, я себя плохо чувствую, давайте завтра. А он мне: да нет, мы уже все подготовили, давайте сегодня.
Померили температуру — она у меня почему-то поднялась. А значит, нельзя оперировать. Ну, тогда говорят, мы вас получше обследуем. И меня повезли на каталке: всё хрустит-скрипит… 10 переломов. А сколько трещин! Врач прибегает через некоторое время, весь белый: Хорошо, говорит, что вы отказались. Мы недосмотрели. У вас дырка типа в лёгком, там жидкость… В общем, вы бы не проснулись после наркоза.
Так что, ангел меня спас.
Да… Это, конечно, было очень близко!
А что за операция?
В: Операция сложная, как оказалось, а тогда мы не знали. Подшивали связки у лопатки.
Неожиданно позвонили страховщики и сказали, что в местной больнице у врачей низкий уровень. Вы, спрашивают, не против, если мы вас перевезем в столицу? Ехать пять часов, на скорой помощи, врач будет вас сопровождать…Ну, я согласился. Там операцию вообще сделали лапароскопически, через какие-то дырочки, даже шрама не осталось.
Н: Правда потом, когда он вышел, у него из плеча две спицы ещё долго торчали.
В: Так что насчет смерти — это актуальная тема. Мы всё ждали 2012 год, конец света, собирались делать ретроспективную выставку в Московском Музее современного искусства. Договорились вроде бы, но не судьба — во всяком случае, у Василия Церетели, мы-то были готовы.
Не судьба — в смысле выставки? Или не судьба конец света?
В: Не судьба насчет выставки, конец света-то произошёл, всё по плану, там срывов не бывает.
Н: (смеется) Не состоялась! Выставка…
В: Мы ещё в 2010 году договорились на 2012… Меня Василий спросил, почему на двенадцатый, ведь ещё рано? А я говорю: да там конец света приближается. Появишься перед Богом, а он спросит: а почему ты ни одной большой ретроспективной выставки в конце не сделал?
Мы задумывали тогда выставку в Ермолаевском, на все 4 этажа, план разработали серьёзный.
Н: Они посмеялись: «Ну-ну, да-да». Туда-сюда, вроде согласились, но потом продинамили. Но это их косяк, а мы даже после обрадовались.
Тем более, конца света вроде так и не случилось?
В: Нет, случился. Мы понимали, что что-то приходит и что-то другое будет. Не в физическом, конечно, смысле… В чем-то другом. Это же в 2012 году с Сашей Шатских мы беседу вели?
Н: Да, мы поэтому и в Таиланд поехали.
В: Да, как раз в конце двенадцатого года. Мы разговаривали с крупным специалистом по Малевичу и русскому авангарду Александрой Шатских, в Нью-Йорке. Она живет там рядом с нами, поэтому мы часто обменивались ужинами. Она специалист по художникам русского авангарда — это как раз люди, которые фактически не получили при жизни признания.
И она нам говорит: «Ребятки, вы не должны переживать. Я же хорошо знаю историю, с такими художниками как вы, которые серьёзно занимались искусством… Вы не волнуйтесь. Вот вы умрёте — и будет большой ажиотаж возле вашего имени и ваших работ».
Повисает небольшая пауза
«Умрёте» повторяет Валерий, будто бы пробуя слово.
В: Ну, мы сначала как-то растерялись, задумались, молчаливые пришли домой. А потом Наташа говорит: «Слушай, если это всё уже как бы решено, ажиотаж будет, то ну его в баню! И Америку эту! Поехали домой, будем жить в своё удовольствие».
Н: Съездили для начала в Доминиканскую республику.
В: Ага, первый раз съездили по «всё включено». Нам понравилось — всё как в раю, всё за тебя и для тебя, а от тебя ничего: только купайся, отдыхай и радуйся. Понравилось!
А осенью в Таиланд поехали, на остров Ко Чанг, байк взяли — и сразу разбились.
Кстати, нас вместо лечения могли бы отправить на самолёте в Москву. Ведь мы не делали страховки на мопед. Нам сразу сказала русская сотрудница: «О, вас сейчас на самолёт посадят, а операцию уже там будут делать, в Москве». И я со своим этим пробитым лёгким там бы и погиб в самолёте, наверху. Но помогла какая-то случайная страховка банка.
Н: Я пошла в банк карточки оформить для поездки, чтобы там пользоваться. А мне говорят: «знаете, у нас акция проходит последние дни, у вас достаточная сумма на счету, так что мы можем вам дать золотые карты».
И к ним прилагается страховка?
Н: И к ним бесплатно прилагается страховка. Там всё было включено: и байки, и много чего ещё. Вот она нас и спасла.
В: И та русская девушка из медицинского центра, когда с ними связалась, сказала, что нам сильно повезло. Ночью вызвали паром и отвезли нас в хорошую больницу. А потом меня перевели в самую лучшую в том регионе, в Бангкоке. Наташа не поехала, плохо себя чувствовала, и осталась на острове. А я там дальше лежал один в отдельной большой палате, среди шейхов.
Если бы не травма, то почти курорт?
В: Почти! Еда из ресторана, белье меняют, две-три тайки тебя обмывают…
Я, правда, отказывался, всё делал сам, но мог бы воспользоваться случаем!
СмеютсяВ: Так что вот такой момент был. Мы сначала не поняли, что мы фактически живём уже после смерти.
Н: Как-то всё переключилось… Вся эта постоянная гонка, когда ты всё время пытаешься чего-то достичь, каких-то результатов… Все это отпало. Да и до этого мы не сильно добивались, просто много работали. А здесь раз — и ничего не делаем, не хо-чет-ся...
В: Мы всё время были в каком-то напряжении, пёрли куда-то, вкалывали, работали — и вдруг перестали работать вообще. За четыре года ни одной творческой работы не сделали. Это была полная смерть. Для художника смерть — когда ты не делаешь работ, не продолжаешь то, что начал.
Но мы и не продолжили!
Получается, что можно умереть как художник, но не как человек?
В: Многие художники в такой ситуации уходили из жизни вообще!
Добровольно? Или от тоски?
В: Добровольно.
Н: Но и от тоски — добровольно.
В: Ван Гог посчитал, что он уже исписался, что он ничего больше не может сделать — и застрелился.
Н: Хотя надо было просто подождать.
В: Да, надо было подождать. Наверно. А может, и нет.
Через четыре года ровно я говорю Наташе, Мексика-Мексика-Мексика, нам нужно в Мексику. Я уже переживаю, что ничего не делаю: что это, я мёртвый художник? Живу и живу — что это? Толку никакого как бы, да?.. И наконец мы поехали. Интересно, что мы вылетели из Нью-Йорка сразу после Хэллоуина. Прямо день в день.
Н: И первого ноября прилетаем в Мексику — а там день мёртвых. А мы не знали.
В: В Мехико сити день мёртвых — большой праздник: маски эти все, костюмы, иконостасы, цветы на всех площадях. От предков у них осталось. И мы там сразу же едем интуитивно на пирамиды Теотиуакана.
В: …Забираемся на пирамиду Луны и Солнца, медитируем. Ну, мы занимаемся всякими этими восточными делами. И там что-то пробивает меня. После этого я взял карандаши и начал рисовать: один, второй, третий — пять рисунков сделал. Я не рисовал 30-40 лет вообще.
И это ровно через четыре года как раз?
В: Нет, это ещё не совсем четыре. До этого все думали — оставаться в Нью-Йорке или вернуться в Москву? А после Мексики всё прояснилось — возвращаемся в Москву! Однозначно и без сомнений! Все вещи из Нью-Йорка забрали, ничего не оставили.
А что-то подтолкнуло к этому? Или почему вы решили уехать совсем?
Н: Почему-то пришло такое решение. Я даже пока ещё точно не знаю, почему. Может быть, это понимание бессмысленности продолжения бегать по тому кругу, по которому мы бегали.
В: Новая жизнь подтолкнула.
Н: Мы поняли, что нам надоело.
В: Эти бега закончились, остались действительно в прошлой жизни. Нам это не нужно уже, а нужно начинать новую жизнь, и начинать её нужно по определенным условиям и правилам. Мы еще не понимали точно, по каким, но решили — в Москву.
И здесь хорошо, отлично!
Меня наш разговор сейчас заставляет вспомнить, как мой дед и его супруга рассказывали про свои ощущения в поздние годы. Когда ему было за 95, ей поменьше, оба говорили, что «каждый день как подарок».
В: Ну, чтобы мы прям так начали это ценить — вот этого точно нет.
Н: А я ценю, каждое утро просыпаюсь — говорю Вселенной «спасибо».
Но это я отошёл от нашего разговора, простите. Итак, вы вернулись в Москву.
В: Мы вернулись сюда, и практически сразу поехали в Коломну, в монастырь.
Н: Там есть музей органической культуры, МОК. И как раз была выставка тех, с кем Валера работал в юности.
В: Это старая моя школа.
Группа Стерлигова?
В: Да. Ребята приехали, и мы. Я показываю им рисунки, которые сделал в Мексике. Они говорят: «как будто вчера рисовал, как будто ничего не бросал». А ведь последний раз я рисовал году в 1982. Я ещё пять рисунков сделал там.
Десять дней мы пробыли в монастыре. Ну, я такой воодушевленный возвращаюсь. А после этого два дня сижу в ступоре, не могу продолжать. Не хочется, всё это из прошлой жизни, я как бы повторяюсь. Зачем мне это? У меня же новая жизнь.
И вдруг через два дня — как раз ровно через четыре года, день в день — я начал рисовать какие-то полосочки, штришочки, кружочки, спиральки… Я чувствую, что меня пробило, канал пошёл — это ещё в Мексике как бы началось. Но там хоть что-то сложное, а тут вот это вот… И я к Вселенной обращаюсь: «и это вот после наших больших проектов и инсталляций шести- девятиметровых?»
Но меня как бы успокаивают: да, это оно. Ведь это новая жизнь, и надо начинать с нуля! Ученики так делают, и я начинал так рисовать. Глаз тренировать, руку набивать.
Ну я Вселенной говорю, что мне нужны бы какие-то знаки! Иначе я… Фигнёй такой не буду заниматься! Что это за новая жизнь такая? Раньше мы делали — международные проекты: перфомансы, инсталляции, а тут — вот это вот на листике из детского альбома для рисования…
Но мне типа говорят, подожди, ты ж только начал. Ты ж начинающий. Имей терпение.
Сколько ты потратил сил в той жизни, когда учился? Да ты и не заканчивал учиться никогда!
И пришёл к нам Виталий Пацюков, известный арт-критик и историк. И мы ему показали эти картинки, а он говорит: «Ух ты! Это новая энергия! Молодые художники!».
Сейчас мы параллельно занимаемся ещё книжкой [Ночь с пионервожатой]. Мы её как видео записываем. Вот этим началась новая творческая жизнь. Мы отстранились от прошлой: нам уже всё равно эти наши заслуги, музеи, выставки глобальные.
Н: Оно как бы в прошлом.
В: Как будто не наше даже. Но мы не отказываемся.
Вот эта новая жизнь, она совсем другая? Или она как-то с прошлой таки связана?
Н: Связана. Но это то, к чему мы не хотим возвращаться. Оно прошло.
Вот как ты был ребёнком и вырос. И ты, конечно, можешь поиграться в игрушки, но ребёнком-то уже не станешь.
В: У нас даже была проверка судьбой какая-то. Нас позвали в Астану на фотофестиваль. Они из разных стран позвали известных фотографов, чтобы они прославили город.
Н: За десять дней нужно было сделать выставку. Каждому по двенадцать работ. Но другие фотографы сняли и выбрали, а нам этого мало, мы в фотошопе работы делаем.
В: А мы его и забыли уже, какие там инструменты… Два дня вспоминали. В результате выдали им двенадцать классных работ — легко.
Получился как бы такой экскурс в прошлую жизнь?
Н: Ну, да. Навыки остались.
В: Я думаю, это как бы такая проверка была. Поняли, что связь есть всё-таки. Что мы не отрезаны от прошлой жизни… Что можем и этим заниматься, прошлое не нужно забывать. Мы связаны генетикой. Но работы вышли совсем другие как-то… Такие лёгкие.
У нас последние работы [до творческого перерыва] все были мрачные, тяжёлые. И названия соответствующие: «Апокалипсис», «Предчувствие Третьей мировой», «Эволюция Хаоса».
Ну, так ведь с таких работ вы и начинали в каком-то смысле? Много лет назад, проекты «Конец Эпохи», а потом «Миражи империй». Они же в каком-то смысле про такие же эмоции, даже про смерть?
В: Ну, «Конец Эпохи» же!
А почему эти темы оказались для вас важными?
Н: Тогда была Перестройка, её нельзя было не заметить. Если сейчас можно на какие-то политические тусовки не обращать внимание, то тогда — никак.
В: Тогда вся страна, вся система умирала. Вместе с людьми, кстати.
Н: Многие не выдержали. От стресса. Они не знали, как жить!
В: И от морального проигрыша предыдущей жизни, когда ты всю жизнь верил, работал, рассказывал своим детям, что это вот так и эдак… И вдруг ты проиграл. Фактически ты как бы умер, ты уже не нужен. Ты ещё живой, но живой труп. Я помню растерянность отца…
Н: И нашей задачей было сохранить то состояние, каким оно было, для памяти следующих поколений.
Состояние эпохи Перестройки?
Н: Перестройки — и вообще культуры СССР. Для молодёжи…
Мы тогда думали, что через 100 лет спросят, что такое СССР, а люди ничего не смогут ответить, потому что сейчас всё снесут, и ничего не останется. Поэтому мы стали фотографировать основные памятники, обрабатывать эти фото…
А на деле и ста лет не понадобилось, 20-30 — и всё. Мы сейчас делаем лекции в университетах: Ленина, конечно, ещё вспоминают, а других…
А в Америке и его не помнят. Даже не знают, что такой человек был.
Ленин?!
Н: Да. Быстро ушло. И наши работы того времени должны были сохранить, передать то состояние.
Н: И вот именно с этой идеей мы уже тогда и работали. Нам все говорили: «Зачем вы этим занимаетесь? Все хотят забыть!». А мы говорим: хотим, чтоб не забыли, чтоб люди помнили.
В: А вот ещё хороший знак был. Мы на ВДНХ году так в 1998-99 съемки делали, где фонтаны. В это время серия «Миражи Империи» стала как бы уже не актуальна.
Уже проходило состояние миражей, а появлялось что-то другое в стране, новое…
И мы снимали фонтан, а недалеко дети сидели, друг друга фотографировали. И вдруг одна девочка говорит: «О, сними меня на этом классном бэкграунде». И это уже не мираж для них, а реально классный бэкграунд.
Н: Оригинальный, такого нигде больше нет.
В: И хорошо на его фоне фотографироваться, им нравится. Вот такая новая жизнь страны и культуры.
А всякая культура перерождается в новый классный бэкграунд?
В: Не всякая! Но таких примеров много: испанцы когда приплыли в Америку к индейцам, в Мексику, они все их храмы и пирамиды стёрли с лица земли. А из их камней рядом строили свои католические храмы.
Н: И когда мы вернулись из первой длительной поездки в Америку в 1995, серия «Конец Эпохи» трансформировалась в «Миражи Империи».
Трагедийность немножко отступила, и старая идеология осталась в прошлом. Осталась сильная архитектура, как мираж ушедшего времени.
В: Мы ведь думали, что всё снесут, всё погибнет. Но потом история как-то остановила этот процесс. И хотя в этих проектах звучит и непрямая тема смерти… Но тема смерти государства! С ней мы хорошо поработали.
Н: Потом мы делали и «Миражи Германии», и «Миражи Испании», и США. Хотя они нас убеждали, что у них не империя, но со стороны-то виднее. Это просто новая форма империи.
В: И в конце концов поняли. Мы же не одни такие! И что культура таки не умерла, а переродилась. Как и мы. И это видно по матрице: когда художник работает с какой-то темой, она глубоко входит в его жизнь, и он иногда повторяет опыт из своей творческой работы в жизни.
Так и получилось: переродилась страна — и мы переродились вместе с ней, но попозже, в своё время.
Не получается ли, что смерти тогда вовсе нет? Если что-то умирая имеет возможность переродиться.
В: Хотелось бы думать — и мы так думаем, — что смерти нет.
Н: Конечно, существует смерть физического тела.
В: Но что-то жило до нас, а потом в нас, и будет жить и после нас. Может быть, наш процесс мышления тоже во что-то переродится, а мы даже и не поймём, что переродились.
Намёками иногда подсказывают, что ты где-то там жил когда-то. Намекают, мол, не волнуйся… И я их тоже понимаю. Они не могут сказать прямо, мол, ты переродишься, не волнуйся.
А они — это кто?
В: Те, кто нами занимается. Конечно, нами кто-то занимается. Это сто процентов.
Нет же хаоса такого. Хотя хаос — это вообще определенный порядок, определённый материал, из которого можно что-то делать, если уж так говорить. Из ничего же не может что-то создаваться.
Кому-то, конечно, хочется верить в то, что всё появилось из ничего — пожалуйста. Но я считаю, что как-то управляют нами.
Если раньше это казалось смешно и невозможно — в Библии написано, что за один день Бог назвал всю тварь сущую, — то сейчас любой программист с этим справится. Ну сколько там этих тварей, десять миллионов? Задай базу — и компьютер всё высчитает, и названия будут все разные. Мы же понимаем теперь, что многие процессы, над которыми мы смеялись или думали, что это фантастика, реальны.
Это вопрос только вычислительных мощностей?
В: Да. И компьютеров. Скоро ещё новые придут, какие-то кварцевые, квантовые. Потом ещё какие-то появятся.
Н: Да и вообще похоже, мы в матрице живём сейчас.
В: Почему бы и нет? Ха-ха! Всё может быть. Это же пространство вариантов [книга Вадима Зеланда]. Чувак же явно считал информацию. Ему дали просто что-то понять и передать: «Скажи этим умным людям, что есть пространство вариантов. Что человек свободен почему? Потому что он выбирает».
Мы осознаём себя, потому что пошли по определенному пути. А могли пойти и по другому, и тогда эта же сущность осознавала бы другую себя. И это бесконечно.
Получается такая квантовая мультивселенная, как это физики называют?
Н: Да-да, просто разными способами люди пытаются это понять и главное объяснить. Иной раз ты же и понимаешь что-то, а объяснить не можешь.
В: Сейчас даже делают фильмы, в которых ты сам говоришь, что сделать — и кино идёт разными путями. Во всем есть какая-то правда и подсказка, в общем.
Н: Но ты можешь её не замечать.
В: Но если пользуешься подсказкой… Чем ты больше пользуешься, тем больше тебе дают, как в школе. Ну, как если бы ангел — это я схематично говорю — жаловался, что, мол, Господи, я этому даю-даю, а он не берет. Ему Господь отвечает: так не давай ему, дай тому, кто берёт, кому нужно. Не всем же людям нужно одно и то же.
Мы же постоянно экзамены сдаём. Сдал – получи материал для делания жизни дальше, не сдал — пересдача!
Получается как в том анекдоте, что дураков мало, но они так хорошо расставлены, что встречаются на каждом углу. Так и здесь — всё находится в какой-то системе. Мы чувствуем эту систему, но не можем понять её полностью. Её полностью и не существует. Она и не может полностью существовать, потому что мы, живя здесь, бесконечность не понимаем.
В голову приходят многочисленные философские осмысления теоремы Гёделя: система (или её отдельные части) не может увидеть и осознать себя целиком во всей своей полноте.
Эти мысли, подсказки как-то помогают не бояться умирать? Если есть подсказки на перерождение, то как бы и смерти нет?
В: Знаешь, у меня память какая-то очень выборочная, ни одного стиха толком не помню. Но иногда бывает, что одну фразу услышишь — и на всю жизнь. Так вот запомнился рассказ про то, как Дюма как-то пошёл на тусовку. Пришёл домой счастливый, радостный: «Так там классно было и интересно, и весело. Но если бы меня не было — сплошная тоска». Поэтому я думаю, что не может быть ни страшно, ни скучно: ты сам создаёшь вокруг себя атмосферу и жизнь.
И вот ещё запомнил фразу: «Как можно бояться смерти? Когда ты живой, её ещё нет. А она пришла — тебя уже нет. Разминулись!». И какой страх может быть, когда ты с ней не встречаешься?
Это конечно такой светский подход, не известно же, какие там процессы идут… Мы же что-то понимаем, читали все эти книги мёртвых и всё такое. Буддистские монахи же прямо готовят человека в путь. И православные тоже провожают, молятся, ставят свечки, чтобы душа всё хорошо прошла.
Н: Значит, душа-то остаётся. А раз она остаётся, значит, не всё кончается.
В: Ну, кому-то хочется не верить в это. Он живёт себе шалтай-болтай и не думает об этом. Но я считаю, что мысли о смерти делают человека полноценным. Потому что жизнь и смерть – это ин-янь, это единое. Ты всегда живёшь с мыслью, что — тынь! — и тебя нету.
Н: Так может произойти в любой момент.
В: Да, и настолько стеночка тоненькая между жизнь и смертью — всегда, у любого человека вне зависимости от его заслуг или состояния. Не важно, миллиард у него или вообще сейчас деньги кончились. А барьерчик всё тот же: тынь! — и всё. И нету тебя. И ты разминулся со смертью. Ты уже там.
Н: И там у тебя начинается неизвестно что.
В: И это всё очень правильно. Те, кто нас сделал, правильно не дали нам точного знания. Ты вот заметил? Сколько живешь — они не дали нам ничего до конца. Ни-че-го!
Н: Всё начинается — и неизвестно как…
В: Теперь я знаю, что ничего не знаю.
Любое открытие мировое — оно такое зыбкое. Через несколько лет оно окажется уже и не открытием, или не таким правильным, появится какое-то уточнение.
И если бы человеку сказали: «Бог есть, вот документ» — всё! Конец человеку, конец свободе! Свобода основана на том, что человек предполагает, но не знает ничего точно.
Н: И в этом «ничего» всё-таки нужно как-то выбирать свой путь.
В: Человеку нужно жить — и он живёт, и он выбирает: может быть, плохое, может быть, хорошее. Но он не знает, будет ли он за это отвечать или не будет. И это тоже хорошо, потому что если бы мы точно знали, то вели бы себя совсем не так. И какой в этом смысл? Никакой свободы нету!
В: А ещё вот и интернет со своей свободой… Интернет — это вообще сумасшедшая история. Интернет — это и есть человек. Схема человека, где есть абсолютно всё.
Ну, что возможно в данный момент жизни.
Заметил, что если ты набираешь «Ельцин хороший», то — пожалуйста, вот тебе вся информация, почему Ельцин хороший. «Ельцин плохой» — и Ельцин будет плохим.
«Ельцин никакой» — и Ельцин никакой.
Н: И по каждому запросу ты найдешь массу информации. Очень убедительной притом. Есть же и люди, которые убеждены в той или иной точке зрения. А интернет не убежден, он как человек, он постоянно сомневается. В человеке есть всё сразу, и то, и это, как в интернете.
Легко запутаться в этой информации.
Н: Да, а ещё нас часто и «ловят». Каким бы умным человек ни был, а всякого мудреца иногда на какой-то крючок поймают.
В: И со смертью нас «ловят»: хорошо-плохо-страшно-не страшно. А важно понимать, как я говорил, что жизнь и смерть — это одно целое. Абсолютно. Я уверен в этом. Постоянно есть какое-то перетекание туда и сюда. И даже иногда туда уходят люди на недолго, а потом возвращаются обратно.
Как это? Сходить в смерть?
В: Ну, да, сколько людей клиническую смерть переживают. Вот тебе и перетекание внутри единого. И чем лучше человек понимает это, думает об этом, тем более полноценно он живёт.
А сколько нужно об этом думать? Есть ли какая-то граница, что вот тут ещё маловато, а тут уже слишком много?
В: Нет, нету, это очень индивидуально. Есть люди, которые живут как единое целое — муж с женой, например. И когда один умирает… Как мой отец. Когда мама умерла, он плакал: «Мы же договорились, что я первый. И что я теперь буду делать?».
Он два года ещё тянул-тянул… И всё говорил, зачем? Я ему идею дал: у нас в роду никого еще не было из мужчин, кто бы дожил хотя бы до 90 лет. Давай, говорю, дотяни до 90, а там посмотрим. И он тянул-тянул, отпраздновал свои 89 и буквально через два месяца, на девяностый год… ушёл.
Я сразу прилетел, конечно. Почему-то я опять был в дороге: когда мама умерла, я был в Сан-Франциско. Я прилетел и её похоронил. Отец умер — мы в Швейцарии были. Но тоже прилетели и похоронили: всё как надо, традиционно, со священником и всё такое. И земле предали без огня.
Ко мне на похоронах подошёл сосед и говорит: «Мне позвонил твой отец вечером, говорит, приди. Я пришел, а он мне: “Ты знаешь, я устал, я уже не хочу больше”. И ночью умер».
Люди иногда живут только на силе воли. У отца воля была колоссальная. Просто колоссальная, это чувствовалось. Очень сильная личность. Он прошёл финскую войну, блокаду Ленинграда, в 1946 году демобилизовался из Вены офицером и инвалидом первой группы.
Н: Ему венский врач-профессор тогда сказал: «Не волнуйтесь, молодой человек — вы ещё лет семь проживёте».
В: Ага, и когда ему 85 лет было, он вспоминал: «И где тот врач?».
Отец тогда как домой вернулся, все инвалидные документы сжег. Стал здоровым крепким человеком. Болел, конечно, язва там… Но он сказал, что он здоровый — и всё. Может же здоровый человек болеть? Все болеют. Но не обязательно же быть инвалидом.
Н: И так в общем до 89 дожил активно, работал.
В: Да, и он каждый день делал зарядку по два часа. И это с трубочкой в мочевом пузыре! Каждый день её промывал… Как-то раз, рассказала сиделка, у него температура была за 40, воспаление лёгких: он лежал, бредил, потом вдруг встает, промывает свою трубочку и опять ложится — всё в бреду. Вот это — воля. И до конца он сам за собой ухаживал.
Но получается, что он после смерти жены так и не нашел другого смысла?
В: Нет, нет, он просто ждал. Думал. О чём? Не знаю.
Повисает небольшая пауза.
Простите, если вопрос неловкий, но вот вы сами так между собой о чём-то договаривались, как ваши родители?
В: Единственно только договорились с сыном — между собой и с сыном. Это связано с моими последними переживаниями: я родителей то похоронил под Харьковом в деревне. И вот пять лет мы уже туда не ездили. Я это сильно переживаю. И мы сказали сыну — и с Наташей тоже договорились, — нас сжечь и развеять. Чтоб мы были везде: что бы где бы ты ни был, вспоминаешь о нас — вот это и есть посещение.
Чтобы сын и другие потомки не беспокоились о кладбищах и уходе за могилой?
В: Только для этого, да. Чтоб не платил ещё, как в Европе или в Америке… А так — ты везде, тебя везде можно вспомнить.
Мы так-то не уверены, нужно ли сохранять тело. Не все религии сохраняют. Тибетцы вон вообще бросают на съедение животным и всё такое… Тибетцы! Которые глубоко погружены в этот переход и знают, что есть переход. А значит, они и знают, что тело не играет роли. Ну, как костюм.
Н: Хотя у них есть, конечно, самадхи.
В: Ну, да, которые вроде как хотят переродиться в том же теле. Хотя я к этому отношусь скептически: если ты знаешь, что твоя душа переродится, зачем тебе это старое тело? Зачем тебе этот старый костюм? Может, это тоже оттуда знак, что и так тоже можно. Что жизнь после вашей смерти какая-то есть: они же как-то там теплятся, монахи эти.
Жизнь в этом смысле вообще иногда бывает непонятна. Вот может быть и наоборот: масса людей живёт и как бы уже и не живёт. Тело их живёт, а они…
Как это? Тело живёт, а человек нет?
В: Ну, допустим, алкоголики, которые регулярно пьют. Выпил-лежит, выпил-лежит, выпил-лежит… Вот это жизнь или нет? В медицинском смысле, конечно, жизнь. И в моральном тоже: его нельзя ни прибить, ни отключить. Но он же ничего… ну, не производит, в смысле, не творит.
А может такой человек снова ожить?
В: Может, всегда есть шанс.
Н: Именно поэтому ничего с ними и нельзя сделать.
В: Не отключают людей [от аппаратов искусственного поддержания жизни], потому что иногда он раз — и ожил. Один такой может быть на тысячу, но остальные 999 тоже продолжают лежать и жить, потому что есть надежда.
Надежда всегда есть — я же говорю: ничего до конца не ясно. Может, и никогда не будет ясно: это мы надеемся, что умрём и всё тогда узнаем. А там может тоже придёшь и попадёшь в другую систему, в ещё одну игру, где, например, времени нет или ещё что…
Вот — задача! Давай теперь, играй по новой. Или сюда вернут: ты, мол, тут что-то не доделал. Теперь давай, дорабатывай кроликом.
А как вообще пришла эта мысль про переходы после жизни?
В: Вообще я с детства всегда чувствовал, что за мной кто-то наблюдает. Как какая-то навязчивая мысль была… Может, это, конечно, шизофрения? Но я настолько это чувствовал, что хорошо помню. Всё думал, кто же это наблюдает? Иногда даже выбегал за ворота в деревне, выглядывал — никого.
Я-то думал, может кто-то на меня в дырку смотрит, и я физический взгляд чувствую. И только потом понял, что наблюдает нечто не физическое. И поэтому, когда ты делаешь плохой поступок и думаешь, что никто не видит, это неправда — всё видят. У меня всегда было такое ощущение. Это вообще хороший сдерживающий фактор. Всё равно что-то делаешь плохое — и стыдно. Ведь это же знают и видят.
И вот оттуда есть понимание, что есть ещё невидимый мир где-то. Но это всё бывает в детстве, потом проходит. Потому что ребенку ведь даётся намного больше, чем взрослому. Потом забирается, чтобы он приспособился, чтобы никаких у него не было иллюзий насчёт жизни на Земле.
Некоторые способности, впрочем, остаются. Например, китайцы, которые в пять лет отлично Моцарта лабают — это ему просто оставили. Время другое пришло, сейчас много таких детей, которым оставляют всякие таланты…Из прошлого. Потому что ну как может быть, чтобы ребенок в пять лет вот так умел.
Н: И тоже интересно про эти письмена твои [речь идёт о нескольких последних работах, где в произведении используются языковые символы неизвестного языка]. Ты же сначала начал эти полосочки, а потом пошло-поехало. Всё стало совершенно другим— абстрактным искусством.
В: Я никогда не занимался абстрактным искусством. Как-то относился к нему… Ну, не моё. Абсолютно не моё, не близкое, как форма выражения не моя была.
А сейчас только этим и занимаемся. Хотя раньше вообще особый фотографический стиль разрабатывали, работа с реальностью видимой и невидимой.
Н: Работали с социальными темами.
В: С документами и фактами. И книги наши, которыми мы последние годы занимаемся, все основаны на документах. Там столько всего такого, что некоторые даже не верят. Но есть свидетели, есть документация. Ничего не надо выдумывать — у меня жизнь такая. Ну вот, например, когда мы первый раз приехали в Нью-Йорк, вышли на Бродвей, и тут же первым делом встретили Андрея Вознесенского...
Потрясающее совпадение.
В: И таких случаев много. Это не один. Я недавно вокалом стал заниматься, но сначала только самостоятельно, учиться ни у кого не хотел. И вот наконец созрел, понял, что топчусь на месте. Мы только выходим из спортклуба, где я пою, я говорю Наташе: «Нужен, конечно, какой-нибудь профессионал, чтобы меня подправлял».
Н: Через две минуты поперек нам идёт знакомая. Мы её года два не видели. Она преподаёт в консерватории ораторское искусство.
В: А у меня была запись с собой, на телефоне, я ей дал послушать. Она: «О! Да это не то… Тебе надо учиться!». Я, говорит, тебе найду учителя. И буквально на следующий день дала телефон знакомой, которая 30 лет вокал в консерватории преподавала — и всё, хожу заниматься. Вот я только сказал, первый раз сказал вслух, что мне нужен преподаватель, и раз — всё свершилось!
Получается такой грамотно сформулированный запрос?
В: Нам так девушка одна и сказала: вы просто грамотно формулируйте — и у вас всё получится.
А можно ли такой запрос сформулировать туда, на после жизни?
Н: На после жизни?.. Я не пробовала, честно говоря. Но последнее время как-то эта тема меня перестала пугать. Если в юности она пугала, то потом, когда ты уже что-то сделал, страх стал уходить.
В: Ну и возраст уже такой. Ты уже серьезно пожил.
А если всё-таки про запрос — хочется чего-то конкретного?
Н: А что там может хотеться? Мы ведь не знаем доподлинно, что там… Конечно, в разных источниках какие-то намёки можно найти, но ведь это всё от людей, которые живут здесь. Может, конечно, у них есть какие-то мысли…
Знаешь, бывает, когда тебя просят описать свой сон, а у тебя даже слов нет. Потому что ты во сне попадаешь в какие-то такие ситуации, которые здесь не происходят. Бывает что-то такое, что даже слов не можешь найти, чтобы рассказать.
В: Оно и не визуальное и не вербальное.
Н: И вот те люди [авторы разных книг] пытаются, конечно, описать такой опыт в меру разных своих сил и возможностей языка, и нашей способности понять что-то.
В: И поэтому я считаю, что жизнь — это одна школа, а смерть — это другая школа. Абсолютно. Говорят, что опыт жизненный там пригодится — может тебя куда-то переквалифицируют, переправят или на какой-то поток поставят: в рай там или в ад, или в чистилище…
В этом я не совсем уверен. Наверное, все программы связаны. Жизнь и смерть связаны, и может быть, ты сейчас готовишься к переходу туда. А может, и не готовишься. Может, там будет что-то абсолютно другое. И здесь ты, предположим, запрограммирован на одну задачу и функцию, а там будет совсем другая — ну, считай, как на другую работу поступил.
Или вот по буддистам: ты — раз! — и переходишь в собачку. И зачем тебе жизненный опыт человека в собачке?
Н: А может и наоборот, что если ты тут человеком чему-то научился, то уже в собачку и не попадёшь.
В: Может и так! Может, ты здесь зарабатываешь себе будущее.
Н: Но это всё только наши домыслы.
В: Стимулы. Чтобы мы здесь не баловались сильно. Хотя, есть те, которые балуются всю жизнь — и ничего, живут себе до 90 лет, хотя это может им дают шанс.
В общем, я считаю, что между жизнью и смертью существует очень узенькая перегородочка, а может и вовсе её нет.
автор - Пётр Рахманов
редактор - Аксинья Ремизова
Если вы столкнулись с потерей близкого человека и необходимостью организовать похороны, обратитесь в службу Ritual.ru. Наши специалисты помогут решить все возникшие проблемы и провести достойную церемонию прощания. Получить подробную информацию и заказать ритуальные услуги можно по круглосоточному телефону Ritual.ru: +7 (495) 100-3-100